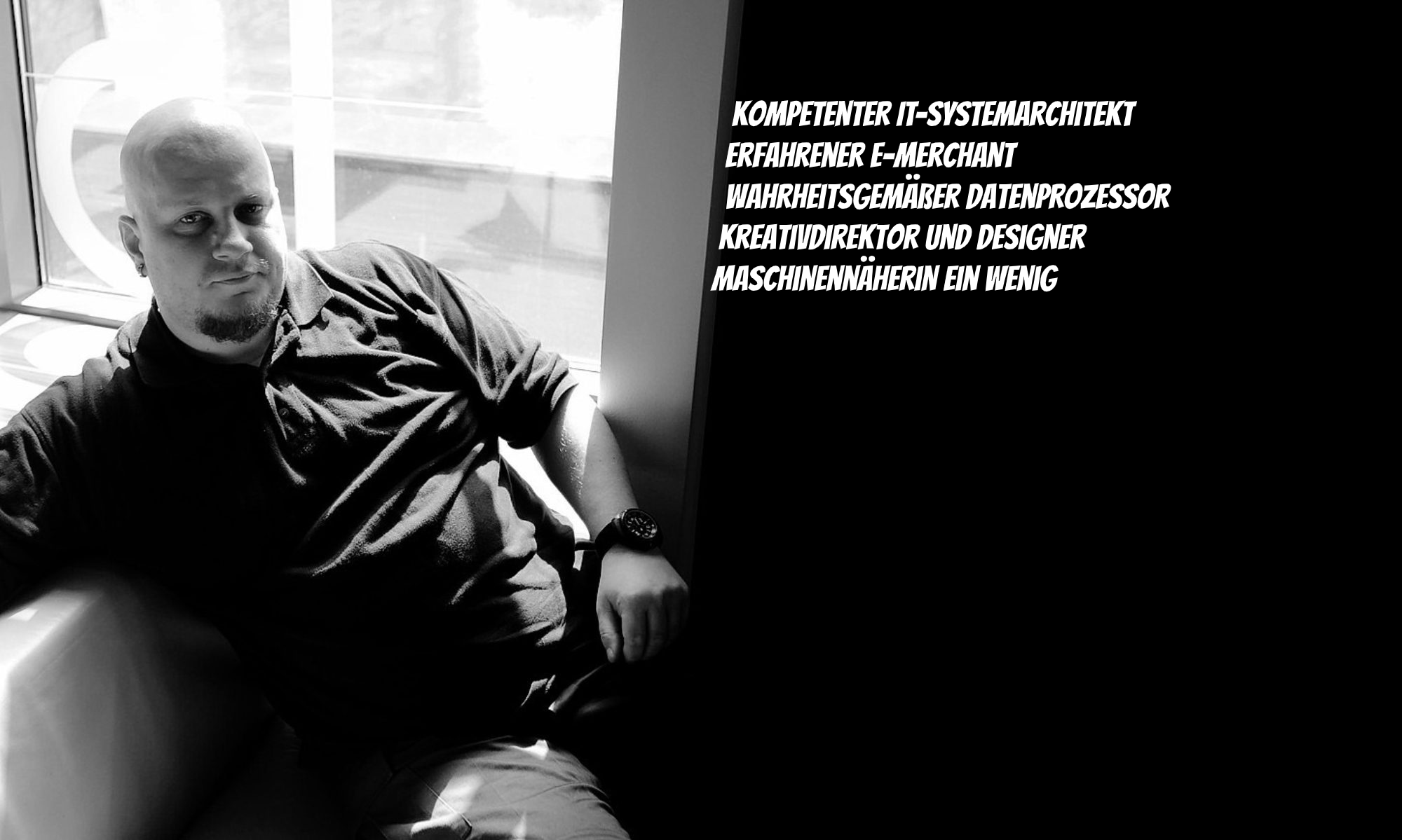Мне предстоял недальний путь: восемь часов прослушивания вариаций на тему «Болеро» в исполнении колёс и рельсовых стыков. На перроне меня встретил помятый со вчерашнего похмела проводник. Его форменная фиолетово-синяя рубашка носила плохо застиранные следы давнишних трапез, лицо было одутловатое, а нос был украшен красноватыми прожилками. Не выходя из режима автопилота, он проверил мой билет и, с видимой неохотой подвинувшись, пропустил меня в тамбур. Ему было вообще впадлу двигаться.
Каждый, кто хотя бы несколько раз ездил поездами Российских Железных Дорог, безошибочно узнает тот запах, которыми вагон встречает пассажиров и которыми пропитывается каждый пассажир после многочасового пребывания в дороге. О, в этом запахе смешана и дорожная пыль, и ветер, и сыроватое постельное бельё, и подтухшие абрикосы-помидоры, и запах нагретого титана, и вечная копчёная курица, которую хоть один пассажир, но возьмёт в дорогу, и, пардон, запах зассаного сортира тоже вносит свои нотки. Когда спадает посадочная суета, и ты уже зашёл в купе, поставил чемодан в ящик под сиденьем и перевёл дух, тогда возникает некая пустота. Мозг перестаёт получать информацию от органов чувств в стрессовом режиме, но мгновенно остановить обработку входящих потоков он не может и поэтому с удвоенной силой начинает впитывать то немногое, что окружает пассажира в этот момент. Именно тогда запах вагона поглощает и перебивает все остальные ощущения, даже если до этого ты не обращал на него особого внимания.
Кое-кто не может остановить свою лихорадочную деятельность после того, как занял своё место согласно билету. Кто-то начинает стелить матрас, кто-то садится за журналы сканвордов с идиотскими псевдо-народными названиями типа «Тёщина пелотка», «Зятёк — маленький хуёк» или как-то так. Лично мне, предпочитающему, подобно Черчиллю, минимализм в двигательной активности, поневоле приходят мысли о тех пассажирах, которые здесь ехали до тебя. Что-то в этом есть от извращения и с жадным, кажущимся самому себе постыдным интересом, ты углубляешься в мысленное подглядывание в чужую жизнь. Особенно бывает прикольно найти забытый кем-то предмет. Тогда вокруг этого предмета выстраиваются вереницы вероятных историй его попадания туда, где ты его нашёл. Кстати, верите — нет, но один раз я нашёл в вагоне часы Картье. Женские, правда, и без ремешка, поэтому я их отдал в мастерскую, их почистили, поставили хороший кожаный ремешок и моя мама до сих пор носит их на руке.
В этот раз проводник, несмотря на неказистый вид, убрался на совесть, а может, попались аккуратные пассажиры. Например, какая-нибудь тихая интеллигентная семья, папа инженер, мама — клерк на госслужбе, двое детей школьного возраста. Родители, желая вырастить из чад достойных членов социума, заставляли детей аккуратно кушать, и выбрасывали мусор только в специально привязанный в откидному столику пакет. Завтракая, дети уронили йогурт на пол, были отруганы страшным шёпотом, и мама специально для таких случаев взятым с собой бумажным полотенцем тщательно убирала следы с казённого линолеума. А перед выходом на станции назначения они внимательно проверили, не осталось ли какого мусора по углам купе.
Ну, вот видите? Вот так всё и придумывается на ровном месте.
Я кинул рюкзак в ящик, опустил полку и сел на потрескавшийся дерматин. Я специально купил хороший туристский рюкзак со множеством карманов, потому что не люблю, когда чемодан а) наглухо выключает руку из движения и б) потому что рюкзак легче носить.
— Извините, я не помешаю?
На пороге купе стоял человек среднего роста в неброской одежде типа джинсов и какой-то лёгкой куртки. В руке его был достаточно большой и объёмный пластиковый пакет, и я тут же решил — вот она, копчёная курица и одновременно с этой мыслью пожалел сам себя, потому что ну надо же! из всего вагона копчёная курица, которую, как, наверное, понятно, я не переношу, досталась в попутчики именно мне.
— Нет-нет, что Вы! — сказал я и подвинулся к окну, закрытому несвежими занавесками. Острые края дерматиновых трещин всхрипнули.
Человек прошёл в купе и поставил на соседнюю полку свой пакет. Передо мной мелькнули заштопанные локти и здорово обтёртые и обтрёпанные понизу штаны.
Нда, подумал я, неказистый же у меня сосед. Такой типичный младший научный сотрудник, аспирант на полставки в поисках незамужней девицы с квартирой. Средних, вроде, лет чувак, мог бы заработать себе на хлеб с маслом, если б захотел. Дай бог, чтобы не начал сейчас грузить про свою нелёгкую жизнь, про жену, ушедшую к другому, более удачливому, про «мало денег» и «всё разворовали», про жидов, которые, как всегда, выпили у русских всю кровь и из кранов всю воду и про то, что раньше эта самая вода была мокрее и сахар слаще. Скорей бы пришли другие попутчики, что ли!
Но тут поезд чуть качнулся, и перрон медленно поплыл за пыльным окном. Промежуточных станций мне предстояла всего одна, и та посреди ночи, так что других попутчиков я, скорее всего, не увижу, даже если они будут. Вот же блин.
Человек напротив первым нарушил неловкое молчание:
— Если Вы не против — давайте зажжём свет?
Действительно, за окном были сумерки и я однозначно не возражал. Щёлкнув выключателями, я озарил наше тёмное царство благословенными лучами имени Теслы.
При свете выяснилось, что попутчик мой может оказаться несколько более интересен, нежели я думал. Лицо его было тёмным от того характерного дорожного загара, который не приобретёшь ни на одном курорте. Только длительное нахождение на открытом воздухе может дать такой густой серо-коричневый цвет лица, без малейшего намёка на обильные алкогольные возлияния. Длинные светло-русые волосы были убраны в хвост, уголки тонких губ смотрели чуть вниз, тонкие линии носа плавно соединялись с открытым лбом, а светлые глаза внимательно и дружелюбно смотрели на меня.
— Ну, здравствуйте! — сказал он. Было в его произношении что-то неуловимое, непонятное, что не позволяло идентифицировать его принадлежность к какой-то конкретной местности. Я удивился такому церемонному началу и, удивлённо улыбаясь, сказал:
— Здравствуйте!
— Давайте, может быть, познакомимся? А то дорога дальняя…
— Ну, у кого дальняя, а кому и через одну выходить! — со смехом сказал я и, назвав своё имя, протянул незнакомцу руку.
— Очень приятно, а меня зовут Михаил! — сказал человек, пожал мою ладонь и серьёзно добавил: «Дорога у нас всех неблизкая». Рукопожатие у него была крепким, но не болезненным, как это часто бывает с простыми людьми, которым что шпалы заколачивать, что руку жать — один хрен. Уже неплохо. По рукопожатию, как правильно учат дубоватых менеджеров по продажам, можно многое сказать о человеке.
— Давайте, может быть, попьём чаю? — предложил он. Я согласился: время, в принципе, позднее, и чай как раз кстати. Заодно проведём время в интересной беседе, а если окажется неинтересно — в конце концов, сошлюсь на усталость и лягу спать. В этом плане моя совесть абсолютно спокойна.
Я сходил к проводнику, который дремал в своей конуре, сидя напротив пульта с кучей переключателей. Я постучал костяшкой пальца по столу, что привело это тело в некоторое подобие сознания. Проартикулировав, а затем и изобразив на пальцах иероглиф «ЧАЙ» я понял, что просить его сделать вообще что-нибудь, требующее некоторой координации движений сейчас, да и в ближайшие несколько часов бессмысленно. Поэтому просто забрал пару условно чистых стаканов с подстаканниками и ложками, сполоснул их в раковине, налил в них кипятка из титана и побросал туда казённые пакетики чая с красными как советский флаг хвостиками.
Успешно миновав раскачивающийся коридор вагона и зайдя в купе, я увидел, что Михаил тем временем расстелил на столе полотенце и разложил на нём нехитрый дорожный рацион: ванильные сухари и сухие галеты. Что ж, в любом случае это гораздо лучше, чем копчёная курица! Ещё один плюс моему спутнику. Я поднял полку и выдернул из кармана рюкзака плитку шоколада, который всегда беру с собой в дорогу.
Некоторое время мы просто прихлёбывали обжигающий чай под аккомпанемент раскачивающегося на стрелках вагона и грызли снедь.
— Скажите, чем Вы занимаетесь в жизни? — опять нарушил молчание пой попутчик.
— Ну… для простоты можно сказать, что я писатель.
— Писатель? — поразился Михаил, — надо же, я почти не встречал людей, которые могли бы назвать себя писателями.
Кажется, мне стало стыдно.
— Ну, строго говоря, я не тот писатель, который пишет романы и повести. Я технический писатель. Я пишу руководства пользователей, знаете, это описания различных программ, иногда пишу статьи в журналы… но уж точно не журналист, — со смехом закончил я свою оправдательно-разоблачающую речь.
По лицу Михаила было видно, что именно чего-то такого он и ожидал, хотя так же было видно, что он пытался скрыть свои чувства, поэтому я тут же оговорился:
— Ну на самом деле я пишу стихи. Иногда для работы, но чаще для себя, для души.
— М-м-м-м! — Михаил одобрительно кивнул, жуя печенье.
— Скажите, не могли бы Вы прочитать что-нибудь из своих стихов? Если Вас не затруднит? — продолжил он, отхлебнув чаю.
Я чуть не подавился. Вот же блин, угораздило. Дело в том, что я вообще довольно критично отношусь к своему творчеству, и уж тем более к стихам. Хотя, с другой стороны, незнакомцу, которого ты в жизни больше не увидишь, можно и раскрыть, так сказать, душу. Какая разница, что он обо мне подумает?
— Хорошо, — сказал я и изобразил на лице некоторое поэтическое страдание, отягощённое интеллектом. По моим представлениям, это должно помочь слушателям проникнуться идеей, что перед ними — настоящий поэт, а не кустарь-самоучка. Ха-ха.
Я выдержал паузу и нараспев прочёл:
— Сияющий ангел в ладони моей
Не жжёт, рассыпая сиянье огней
Он пламень и искры роняет во мглу
Меня сберегая от шествия к злу
Я знаю, не сможет меня он спасти
Когда я решу никуда не идти
Погаснет очаг и туманы болот
Затянут меня в мелочёвку забот
Сияние крепнет, когда я — творец
Когда ощущаю я пламя сердец
Пока я горю и пока я живой,
Я знаю — мой ангел пребудет со мной!
Повисла несколько затянувшееся молчание. По лицу Михаила было трудно понять, понравилось ему или нет. Да и хрен с ним, в конце концов. Не всё ли мне равно.
— Скажите, верите ли Вы в Бога?
Я чуть не поперхнулся чаем второй раз за последнюю пару минут — многовато для такого короткого промежутка времени. Блять, вот оно, началось. Мне что, пиздец, и это религиозный фанатик или того хуже — сектант? Это блять посильнее копчёной курицы будет! Я дожевал сухарь и ответил:
— Ну, как сказать… смотря в какого.
— Ну, а в какого верите? — спросил сектант и устремил в меня свой светлый взгляд поверх стакана.
Я аккуратно сказал:
— Ну, это в принципе долгий разговор, не думаю, что Вам будет интересно…
— Ну, отчего же? Я, некоторым образом, собираю представления различных людей о боге. Если угодно, это моё хобби! — сказал Михаил, и я немного успокоился: на сектанта такой мотив не походил — но мало ли, может быть, это такой хитрый заход!
Я немного помолчал, формулируя мысль, и выдал:
— Я верю в бога, как единую сущность, объединяющую всё мироздание. То есть, и живая, и неживая природа, и электромагнитные поля — всё это суть бог. И в каждом из нас есть бог, и бог есть всё сущее.
Михаил задумчиво жевал сухарь и я продолжил:
— Ну, можно сказать, что я такой нео-язычник. Бог в природе и всё такое, а мы в эту природу гадим и она нам за это мстит в меру своих возможностей. В этом смысле моё стихотворение, конечно, аллегорично.
Михаил отхлебнул из стакана и поморщился — видимо, хватанул горячего.
— Знаете, а Вы близки к правде в своём понимании Бога, — сказал он.
— Отчего это Вы в этом так уверены? — недоумённо спросил я.
— Ну… — начал Михаил, — я в принципе достаточно хорошо знаком с весьма широким кругом мировых религий. И знаете, подавляющее большинство из них похожи друг на друга, как близнецы, как две капли воды.
— Это чем же? — удивился я, — это чем же, к примеру, сибирский шаман похож на лютеранского пастора?
Михаил рассеянно поставил стакан на стол. За окном мелькнули станционные фонари, вновь сменившиеся темнотой, вагон подпрыгнул на очередной стрелке, и ложка в стакане звякнула.
— Ну, вот смотрите… как Вы думаете, что объединяет все религии? — спросил он.
— Ну, я даже и не знаю, — рассмеялся я. — Если бы знал — не задавал бы таких вопросов.
Михаил о чём-то подумал и вдруг посмотрел на меня очень пристально. Мне натурально стало не по себе — не, он-таки натурально ебанутый! Блять, надо поосторожней — а ну как ночью задушит нах!
— Вы, наверное, думаете, что я ненормальный? — Михаил вздохнул и отвёл взгляд, а я облегчённо, но с ещё большим удивлением перевёл дух. — Нет, уважаемый. Я просто очень много знаю… а во многия знания — многия печали.
Он откинулся назад, и теперь я не видел его лица, скрытого тенью верхней полки.
Некоторое время мы молчали и слушали, как колёса катятся по длинным магистральным рельсам. Болеро сменилось художественным свистом.
Я кашлянул и сказал:
— Михаил… скажите, а что Вы делаете в жизни? Интерес к религиям, как Вы сами сказали, это Ваше хобби. А что приносит вам доход?
Мне показалось, что он помрачнел, но, строго говоря, быть в этом уверенным нельзя — его лицо по-прежнему находилось в тени.
— Доход?.. Скажем так, доход я получаю от чтения лекций.
— О, так Вы профессор? А каких наук, если не секрет?
Михаил задумался. Странная реакция для профессора — не знать свою специализацию, нда…
— Психологических. Да, психологических. Это будет ближе всего.
— А где Вы читаете лекции? В университете?
— Эм-м-м. Ну да. Меня обычно приглашают в разные места, — Михаил снова запнулся.
Что-то меня всё-таки в нём настораживало. Какой-то он не от мира сего. Хотя с другой-то стороны — профессора нормальными и не бывают. К тому моменту, как они достигают вершины научной лестницы, ум у них обычно заходит за разум. Не могут вбить гвоздь в стену, но зато в состоянии в уме решить дифференциальное уравнение второго порядка.
Я успокоил таким образом сам себя и решил попытаться разговорить этого странного кренделя. Дальнейшая беседа обещала быть крайне интересной.
— Хорошо. Наверное, я могу сказать, что есть общего во всех религиях. Давайте заглянем с другой стороны. Вот смотрите: как Вы думаете, зачем люди распространяют свою веру? Ну зачем, скажите, апостол Пётр пришёл проповедовать в Рим? Чего ему не сиделось в Галилее? Там что, все сплошь праведники были? Зачем Мохаммед ходил войной на Мекку, которая сейчас считается святыней наравне, и даже больше, чем давшая ему приют Медина, по праву могущая считаться колыбелью Ислама? И это только в начале пути, а уж про конкистадоров, крестовые походы, католиков с гугенотами, мусульман и индуистов можно вечно беседовать. Так что мне кажется, что все религии объединяет то насилие, с которым распространяется вера.
Михаил по-прежнему молчал. Не дождавшись его реакции, я добавил:
— Единственное известное мне исключение — это, наверное, буддизм. Что-то мне неизвестно религиозных войн на этой почве. Хотя, может быть, конечно, насилие и там имело место.
— Шао-Линь, — Михаил нарушил мой монолог.
— Шао-Линь? Но ведь эти монахи не распространяли веру через насилие. Они были скорее врачевателями, знахарями, людьми, которые знали, как устроено и на что способно человеческое тело. Это практически доказано сейчас…
— Они просто были наёмниками, которым никакие запреты Будды не мешали убивать людей десятками.
— Михаил, послушайте, я не знаю, откуда у Вас такие данные, конечно, но мне кажется…
— Вот Вам кажется, а я изучал историю вопроса весьма детально!
Похоже, я задел его. Жаль, конечно, что про Шао-Линь я знаю только из колотушечных фильмов да статей в популярных журналах. Достоверный источник, ага. Сейчас он меня разорвёт, если захочет.
Михаил оттолкнулся спиной от стенки купе и рывком сел ближе. Я инстинктивно отодвинулся.
— Хотите, я скажу, что объединяет все религии? — сказал он, подавшись вперёд. Глаза его вперились в меня.
Я вновь испытал беспокойство, но волевым усилием подавил его.
— Сделайте одолжение, скажите.
Михаил некоторое время смотрел мне в глаза, затем снова откинулся к стенке. Лицо его снова скрылось в тени.
— Смерть.
— Простите, что? — мне показалось, я ослышался.
— Смерть. Не-жизнь. Прекращение существования белкового тела. Назовите как угодно.
Я недоумённо пожал было плечами, но Михаил объяснил свою мысль.
— Видите ли, когда человек приходит в этот мир — он чист. Само зарождение жизни, великая тайна, скрытая от понимания человека, покрыто тайной. Никто, ни один учёный не сможет сказать в момент зачатия, о чём будет думать будущий ребёнок, что его будет волновать, будет ли он художником, математиком, философом или спортсменом. Человек-родитель совершено беспомощен в этом — и слава богу.
Михаил помолчал и продолжил:
— Ребёнку не нужна вера. Ему не надо знать, что там, за тучкой, живёт боженька, который приглядывает за ним. Он подобен животному, которое существует в гармонии с природой инстинктивно, не думая о правильности того или иного своего деяния. Но затем родители дают ему костыли веры в абстрактно-конкретного бога. Абстрактного — потому что его никто не видел, на его волю можно только сослаться, причём в любой совершенно ситуации. Повернуть так, как в данный момент выгодно. Какая разница! Всё равно он ничего не скажет.
— А конкретного — почему?
— А потому, что родители всовывают детей в те рамки, в которых сидят сами, в которые их посадили их родители, и так далее и так далее. Если родители католики — будьте покойны, они захотят, чтобы их ребёнок также был католиком. Если они зороастрийцы — стоит их ребёнку принять ислам, как он будет изгнан из семьи. На самом деле даже не так важно, следствием чего явилось принятие той или иной веры — важно, что человек ходит на костылях вместо того, чтобы свободно бежать. Он перекладывает ответственность за свою судьбу на непонятно кого.
Михаил сел чуть удобнее и поправил свой пакет, который сполз на полку.
— Так вот, слушайте дальше. Видите ли, проблема как раз в том, что в какой-то момент ребёнок перестаёт быть чистым. Я долго пытался понять, как именно и когда именно это происходит — и знаете что? Я не знаю ответа. Это как с зачатием — тайна бога от людей. Невозможно сказать, как и когда ребёнок отдаляется от бога, но это происходит со всеми в своё время.
— Михаил, прошу прощения — но причём же здесь смерть?
— Мы почти подошли к сути. Обычно люди уходят из жизни в более-менее зрелом возрасте. То есть, к этому моменту у них складывается определённое представление о своей религиозной принадлежности. Он как будто бы знает, каков его Бог.
— И что же? — я был очень заинтригован.
— А то, что в тот момент, когда человек умирает, он не возвращается к истинному Богу только потому, что не знает куда идти!
Я был поражён таким выводом.
— Михаил, простите… но ведь если человек искренне верит в то… во что он верит — разве это не есть дорога к Богу?
— К сожалению, нет. Поверьте мне — все религии мира только мешают человеку познать истинного Бога и вернуться к нему. Все эти бесконечные запреты, ограничения, молитвы или отрицание поклонения идолам — неважно. Пока человек не найдёт свою, только свою дорогу к богу — он не вернётся назад.
Я разочарованно протянул:
— Михаил, но ведь это же даосизм чистой воды!
Михаил серьёзно посмотрел на меня.
— Я рад, что Вы знаете про Дао. У даосов не бывает учеников, как вы, наверное, знаете. Даос может указать лишь начало долгого пути, но каждый проходит его сам. Без дальнейших подсказок. И то, о чём Вы сказали, то, во что Вы верите — это очень близко к правде. Я рад, что Вы сами прошли свой путь к истинному Богу.
Мне стало как-то неуютно. От тёмного окна как будто повеяло холодом.
— Михаил, погодите… что значит — прошёл свой путь?
Михаил печально взглянул на меня.
— Это значит, что Вы скоро умрёте.
Нихуя ж себе. Это кто ж из нас тут ебанутый-то… он, который несёт хуйню, или я, который во всё это готов поверить?!
— Михаил, простите — а Вам не кажется, что это несколько перебор?
Михаил покачал головой.
— К сожалению для Вас — нет. Не кажется. Я даже могу сказать, отчего Вы умрёте.
Я похолодел. Видимо, он заметил перемену в моём лице и поторопился продолжить:
— У Вас повышенное внутричерепное давление — Вас ждёт обширный инсульт.
— К-к-к-когда…
— Прямо сейчас…
Михаил встал и вдруг оказался гораздо выше ростом, чем казался раньше. Он заполнил собой всё пространство вокруг меня и положил мне на голову свою руку. Его светлые, сияющие глаза печально и спокойно посмотрели сквозь меня, я почувствовал, как тепло мягко и непреодолимо разливается под черепом и упал на бок перед тем, как закрыть глаза.
***
— Нам пора.
— Что… что происходит? Где я?
— Вы были готовы, и я помог Вам вернуться к истинному Богу. Хотя, по правде сказать, Вы были готовы и сами.
И тут я познал Бога. Я ощущал всё, что происходит в этом мире, во всей Вселенной. Разум мой отказывался вмещать в себя Бога, но кто-то шепнул мне сквозь рёв бесчисленных потоков материи и времени: «Стань Богом, просто стань им, не частью, но целым»
И я стал.
30−04−2006